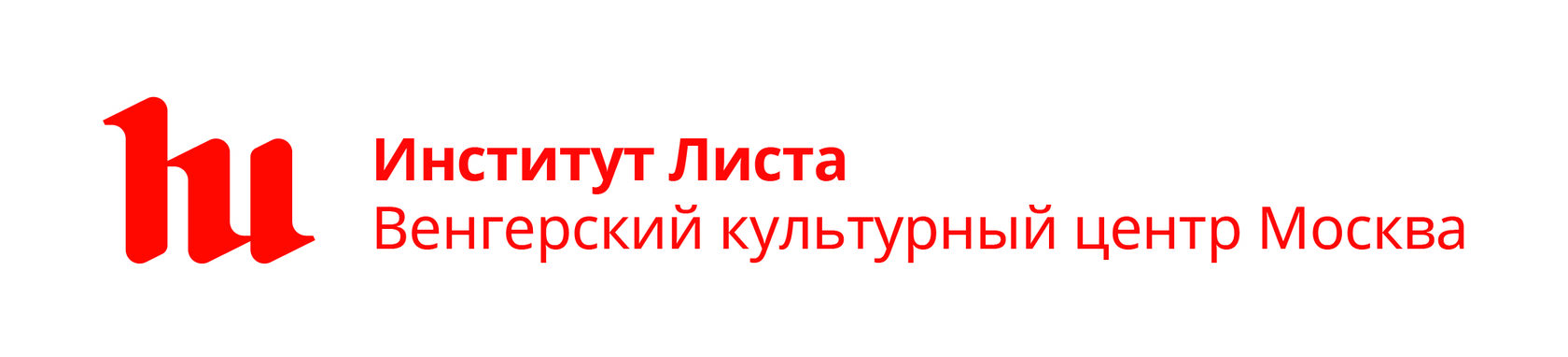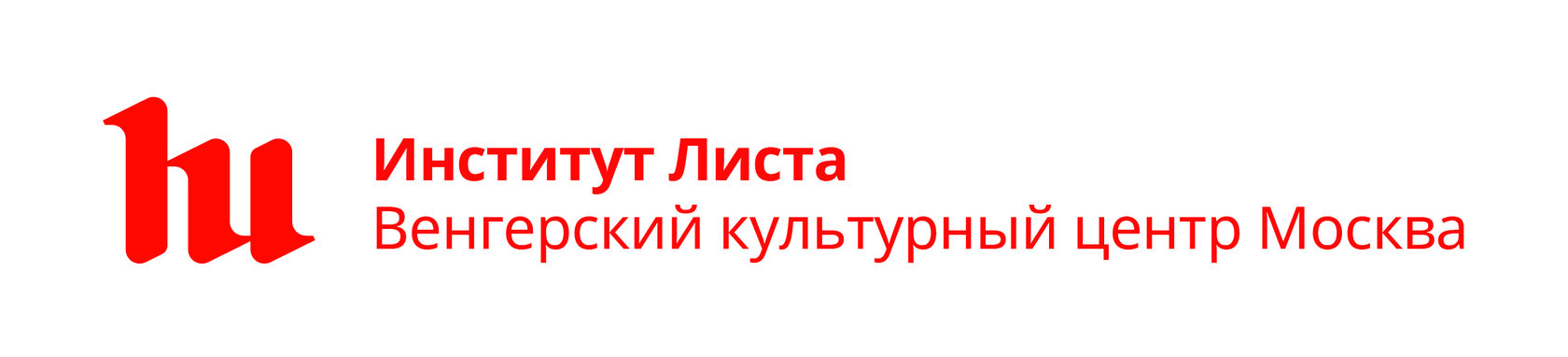Рассказы-минутки
09.06.2021
Один раз в месяц мы высылаем анонсы и приглашения на наши мероприятия
Иштван Эркень — величайшая фигура гротеска, классик венгерской литературы, основоположник венгерского театра абсурда, писатель и драматург.
*В СССР его пьесы «Семья Тот» и «Кошки-мышки» были поставлены в десятка театров и имели оглушительный успех. А фирменные рассказы-минутки вышли в 1968 году.
Как бы они выглядели в 21 веке? К 5 апреля 2021 года ко Дню Рождения автора мы подготовили небольшие видеоролики по мотивам его рассказов. В сериях снялись актеры центра им. Мейерхольда, ученики Виктора Рыжакова — театрального режиссера, лауреата премии Станиславского, обладателя Рыцарского Креста Венгрии.
Читайте в нашей статье!
*В СССР его пьесы «Семья Тот» и «Кошки-мышки» были поставлены в десятка театров и имели оглушительный успех. А фирменные рассказы-минутки вышли в 1968 году.
Как бы они выглядели в 21 веке? К 5 апреля 2021 года ко Дню Рождения автора мы подготовили небольшие видеоролики по мотивам его рассказов. В сериях снялись актеры центра им. Мейерхольда, ученики Виктора Рыжакова — театрального режиссера, лауреата премии Станиславского, обладателя Рыцарского Креста Венгрии.
Читайте в нашей статье!
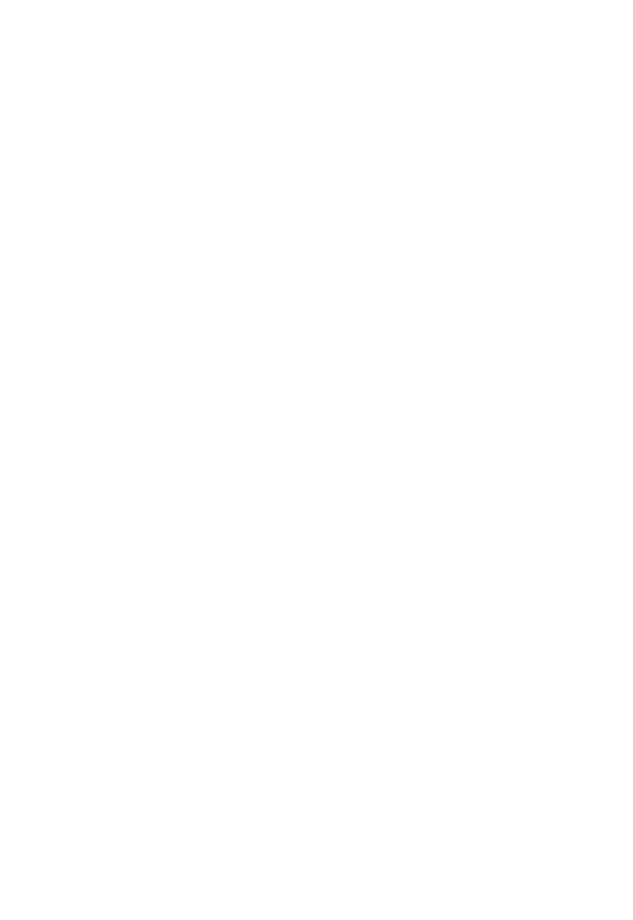
Иштван Эркень, 1974
Об авторе
Иштван Эркень родился в 1912 году в семье аптекаря. Несмотря на образование фармацевта и инженера-химика, литература влекла его больше медицинских пробирок.Свой первый сборник "Пляска моря" Иштван опубликовал на собственные средства в 1941 году. А в 1942 году в началась война. Писатель был мобилизован на фронт, попал в плен и был оказался в лагере для военнопленных под Москвой.После войны вернулся на родину и снова принялся писать. Правда, в 1956 году попал в черный список цензуры за резкие политические высказывания. Лишившись всякого дохода, ему не оставалось ничего, кроме как устроиться на завод по изготовлению медикаментов. Но даже цензура не заставила писателя бросить творчество. А даже наоборот — дала больше свободы.
Иштван Эркень родился в 1912 году в семье аптекаря. Несмотря на образование фармацевта и инженера-химика, литература влекла его больше медицинских пробирок.Свой первый сборник "Пляска моря" Иштван опубликовал на собственные средства в 1941 году. А в 1942 году в началась война. Писатель был мобилизован на фронт, попал в плен и был оказался в лагере для военнопленных под Москвой.После войны вернулся на родину и снова принялся писать. Правда, в 1956 году попал в черный список цензуры за резкие политические высказывания. Лишившись всякого дохода, ему не оставалось ничего, кроме как устроиться на завод по изготовлению медикаментов. Но даже цензура не заставила писателя бросить творчество. А даже наоборот — дала больше свободы.
Так, например, появились и знаменитые рассказы-минутки. По своей сути это небольшие психологические произведения о современной (для автора) жизни. Они стали популярны и положили начало новому литературному жанру. Сам Эркень говорил, что эти зарисовки появились лишь потому, что ему было лень писать что-то длинное.
Перевод рассказов: Татьяна Воронкина
1
Кто её видел?
Госпожа Марта Кальман, урожд. Флюгл, сорока одного года, жительница Будапешта, 7-го числа текущего месяца пополудни отправилась в кино и с тех пор домой так и не вернулась. Словесный портрет: роста высокого, хотя скорее низкого, склонная к полноте, а точнее говоря, худющая. Глаза: голубые, то есть зеленоватые, а может, карие. Цвет волос неопределенный, зимнее пальто темно-синее, вернее, коричнево-рыжее, возможно, серое, воротник оторочен мехом. (Если уж быть точным, то не мехом, а бархатом или вообще без всякой оторочки.)
Особая примета: женщина.
Сообщений от лиц, могущих навести на след
пропавшей,
с нетерпением ожидает
обеспокоенный муж.
Особая примета: женщина.
Сообщений от лиц, могущих навести на след
пропавшей,
с нетерпением ожидает
обеспокоенный муж.
2
Perpetuum mobile
Аушпиц рассказывал, что прежде был подручным пекаря в булочной на улице Вереш Палнэ в центре Будапешта. По утрам, рассказывал он, запросто съедал килограммовый каравай хлеба. Весил он в ту пору девяносто два килограмма.
— Как думаете, сколько во мне теперь?
Этого мы сказать не могли. Факт, что Аушпиц уже не выходил по нужде, а это дурной признак, только пил воду, что признак еще более дурной. Знай пил и пил воду. Ему и пить-то не хотелось, а он все пил — как бездонная бочка.
Одежда его сплошь покрылась гнидами — тоже не к добру. Единственный способ удерживать вшей — поминутно давить их, иначе они расплодятся и усеют гнидами все одежные швы, особенно в тех местах, которые прилегают к теплому телу. Подмышки у Аушпица сделались совершенно серыми от гнид. Мы не стали ничего говорить ему. В таких случаях слова уже не помогают.
Однажды ночью я проснулся от того, что он беспрестанно ворочался.
Я спросил:
— Скажи, Аушпиц, что ты делаешь? Он ответил:
— Ем.
Я спросил:
— Что же ты ешь, Аушпиц? Он ответил:
— Я, видишь ли, поедаю гнид. И вшей тоже, знаешь ли.
Я зажег спичку, но тотчас же и задул ее. Фронт подступил уже совсем близко; даже курить по ночам запрещалось. Я успел всего лишь увидеть, что лицо у него спокойное, почти довольное.
— Не болтай ерунды, Аушпиц, — сказал я ему.
— Что же мне, ждать, покуда они высосут из меня всю кровь? — спросил он.
Надо продержаться максимум две недели, объяснил он. А если поедать вшей, то эти две недели выдержишь играючи, поскольку ничто не пропадет впустую. Каждая капля крови, которую у тебя высосут, снова поступит в организм; то есть не станешь сильнее, но и не ослабеешь.
— Значит, ты изобрел перпетуум мобиле, — сказал я.
Он не знал, что это такое. То, что не требует затрат энергии, сказал я. Ему все равно было не понятно. И пока он поедал гнид, я объяснил ему принцип вечного двигателя. Потом мы уснули. Утром я попытался растолкать его, но жизнь в нем уже угасла.
— Как думаете, сколько во мне теперь?
Этого мы сказать не могли. Факт, что Аушпиц уже не выходил по нужде, а это дурной признак, только пил воду, что признак еще более дурной. Знай пил и пил воду. Ему и пить-то не хотелось, а он все пил — как бездонная бочка.
Одежда его сплошь покрылась гнидами — тоже не к добру. Единственный способ удерживать вшей — поминутно давить их, иначе они расплодятся и усеют гнидами все одежные швы, особенно в тех местах, которые прилегают к теплому телу. Подмышки у Аушпица сделались совершенно серыми от гнид. Мы не стали ничего говорить ему. В таких случаях слова уже не помогают.
Однажды ночью я проснулся от того, что он беспрестанно ворочался.
Я спросил:
— Скажи, Аушпиц, что ты делаешь? Он ответил:
— Ем.
Я спросил:
— Что же ты ешь, Аушпиц? Он ответил:
— Я, видишь ли, поедаю гнид. И вшей тоже, знаешь ли.
Я зажег спичку, но тотчас же и задул ее. Фронт подступил уже совсем близко; даже курить по ночам запрещалось. Я успел всего лишь увидеть, что лицо у него спокойное, почти довольное.
— Не болтай ерунды, Аушпиц, — сказал я ему.
— Что же мне, ждать, покуда они высосут из меня всю кровь? — спросил он.
Надо продержаться максимум две недели, объяснил он. А если поедать вшей, то эти две недели выдержишь играючи, поскольку ничто не пропадет впустую. Каждая капля крови, которую у тебя высосут, снова поступит в организм; то есть не станешь сильнее, но и не ослабеешь.
— Значит, ты изобрел перпетуум мобиле, — сказал я.
Он не знал, что это такое. То, что не требует затрат энергии, сказал я. Ему все равно было не понятно. И пока он поедал гнид, я объяснил ему принцип вечного двигателя. Потом мы уснули. Утром я попытался растолкать его, но жизнь в нем уже угасла.
3
Наша страна маленькая
Супруга палача: Удивительно вкусное это печенье с сыром!
Палач: Просто тает во рту.
Супруга жертвы: Рекомендую попробовать и сладкое тоже.
Супруга палача: Сроду не едала такого печенья.
Жертва: Надо бы нам собираться почаще.
Супруга палача: Нас так мало, надо уж удержаться вместе.
Жертва: В единстве сила.
Палач: Послушай, дружище, мы с тобой пили на брудершафт?
Жертва: Конечно. Потому и обращаемся друг к другу на «ты».
Палач: А мне хотелось бы теснее скрепить узы нашей дружбы.
Жертва: Тогда давай выпьем.
Палач: Дай тебе Бог здоровья!
Жертва: И тебе, друг, тоже.
Палач: Просто тает во рту.
Супруга жертвы: Рекомендую попробовать и сладкое тоже.
Супруга палача: Сроду не едала такого печенья.
Жертва: Надо бы нам собираться почаще.
Супруга палача: Нас так мало, надо уж удержаться вместе.
Жертва: В единстве сила.
Палач: Послушай, дружище, мы с тобой пили на брудершафт?
Жертва: Конечно. Потому и обращаемся друг к другу на «ты».
Палач: А мне хотелось бы теснее скрепить узы нашей дружбы.
Жертва: Тогда давай выпьем.
Палач: Дай тебе Бог здоровья!
Жертва: И тебе, друг, тоже.
4
Нет прощения
Двадцать форинтов я дал санитарам, которые положили отца на носилки и отнесли в машину «скорой помощи». В больнице я тоже вручил по двадцатке дневной и ночной сестрам и попросил присмотреть за ним. Обе сказали, чтобы я не беспокоился: каждые полчаса они будут наведываться к нему, тем более что больной, к счастью, в полном сознании. Следующий день пришелся на воскресенье, так что я смог навестить отца. Он все еще был в сознании, но говорил с трудом. Лишь от его соседа по палате я узнал, что сестры к нему так и не заглядывали, что, впрочем, неудивительно, ведь на попечении двух сестер — сто семьдесят больных; но ко всему прочему даже врачи его не осматривали под тем предлогом, что сегодня выходной, а вот уж в понедельник его обследуют по всем правилам. Таков здесь обычный порядок, сказал сосед, если больного привозят в субботу утром.
Я вышел в коридор поискать сестру, но не нашел ни одной из тех, с кем разговаривал вчера. С превеликим трудом удалось разыскать дежурную сестру: ей я тоже дал двадцать форинтов и попросил время от времени заглядывать к отцу. Мне очень хотелось встретиться и с врачом, я еще дома вложил в конверт стофоринтовую бумажку, но сестра сказала, что доктора вызвали в женское отделение на переливание крови и что я могу положиться на нее, она ему все передаст. Я вернулся в палату, и сосед по койке успокоил меня, сообщив, что дежурный врач все равно никогда не успевает осмотреть больных, так что большой беды нет, если я не смог передать ему деньги. Все равно только завтра, когда придут лечащие врачи, они займутся отцом.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросил я.
— Спасибо, ничего не надо.
— Я принес тебе яблок. — Спасибо, есть не хочется. Я еще с часок посидел у него, приткнувшись на краю койки. Вроде надо бы поговорить с ним, но говорить было не о чем. Через какое-то время я спросил, испытывает ли он боли. Не, сказал он, не испытывает. Подробнее допытываться было неловко. И мы все время молчали. Отношения у нас всегда были деликатные и сдержанные, мы обычно говорили друг с другом лишь о делах, но те дела, которые можно было обсуждать еще вчера, сегодня стали мелкими и ничтожными. О чувствах же у нас никогда не заходило речи. — Ну, тогда я пошел, — сказал я наконец.
— Ступай, сынок, —проговорил он. — Завтра зайду, потолкую с врачом. — Спасибо, — поблагодарил он. — Лечащий врач придет только утром. — Да ведь не к спеху, — сказал он и взглядом проводил меня до двери. В семь утра мне позвонили и сказали, что отец ночью умер. Когда я вошел в 217 палату: его место уже было занято другим человеком. Сосед по койке и на этот раз успокоил меня: отец нисколько не мучился, просто вздохнул глубоко и — конец. Я подозревал, что сосед, наверное, не открыл мне всей правды; на его месте, подумалось мне, я и сам говорил бы то же самое; но затем я постарался внушить себе, что сосед все же не обманывает и отец и вправду скончался без мучений. Предстояло выполнить массу формальностей. В приемном покое меня встретила сестра — но не из тех, что были в субботу, и не та, что дежурила в воскресенье, а совсем незнакомая — и передала мне золотые часы отца, его очки, кошелек, зажигалку и пакет, в котором лежали яблоки. Ей я тоже дал двадцать форинтов и продиктовал необходимые данные об отце. Затем ко мне подступил какой-то мужчина в кожаной кепке и предложил обмыть, побрить и обрядить покойного. Он, правда, употребил слово «тело», очевидно давая понять, что упомянутого лица уже нет в живых, но и покойным его не назовешь покуда он не обмыт и не обряжен. У меня оставались еще припасенные для врача сто форинтов в заклеенном конверте. Я протянул их служителю морга. Он надорвал конверт, заглянул туда, затем сорвал с головы кепку и больше не надевал ее в моем присутствии. Сказал, что устроит все в наилучшем виде, как только изволю прислать чистое белье и одежду, и что непременно останусь доволен. Я ответил, что после обеда занесу белье и темный костюм, а сейчас мне хотелось бы пройти к отцу. — Вы хотите взглянут на тело? — поразился он. — Да, хочу, — ответил я. — Лучше бы потом, — посоветовал он. — Я хочу увидеть сейчас, —повторил я. —Меня не было с ним, когда он умер. Поколебавшись, служитель все-таки провел меня в морг, отдельное здание посреди больничного сада. Сильная лампочка без абажура ярко освещала подвал. Надо было спуститься по бетонным ступенькам, и в самом низу, на голом цементном полу, навзничь лежал мой отец. Ноги раскинуты, как на батальных полотнах изображают павших геройской смертью, с той только разницей, что на нем не было никакой одежды. Из одной ноздри торчал кусочек ваты, а другой клочок ваты приклеился к левому бедру. Видимо, сюда ему делали последний укол. — Пока еще не на что смотреть, — извиняющимся тоном сказал обладатель кожаной кепки. Даже в ледяном подвале он продолжал стоять передо мной с непокрытой головой. — Вот когда я его обряжу — залюбуетесь. Я промолчал. — Усопший долго болел? — спросил он немного погодя. — Долго, —ответил я. — Я думаю покороче подстричь ему волосы, — заметил он. — Это очень много значит. — Как хотите, — сказал я. — Он зачесывал волосы на пробор? — Да, — ответил я. Он замолчал. Я молчал тоже. Мне нечего было сказать и ничего невозможно сделать, и даже денег дать было некому. Я не в силах ничего искупить, даже если сам заживо погребу себя вместе с отцом.
Я вышел в коридор поискать сестру, но не нашел ни одной из тех, с кем разговаривал вчера. С превеликим трудом удалось разыскать дежурную сестру: ей я тоже дал двадцать форинтов и попросил время от времени заглядывать к отцу. Мне очень хотелось встретиться и с врачом, я еще дома вложил в конверт стофоринтовую бумажку, но сестра сказала, что доктора вызвали в женское отделение на переливание крови и что я могу положиться на нее, она ему все передаст. Я вернулся в палату, и сосед по койке успокоил меня, сообщив, что дежурный врач все равно никогда не успевает осмотреть больных, так что большой беды нет, если я не смог передать ему деньги. Все равно только завтра, когда придут лечащие врачи, они займутся отцом.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросил я.
— Спасибо, ничего не надо.
— Я принес тебе яблок. — Спасибо, есть не хочется. Я еще с часок посидел у него, приткнувшись на краю койки. Вроде надо бы поговорить с ним, но говорить было не о чем. Через какое-то время я спросил, испытывает ли он боли. Не, сказал он, не испытывает. Подробнее допытываться было неловко. И мы все время молчали. Отношения у нас всегда были деликатные и сдержанные, мы обычно говорили друг с другом лишь о делах, но те дела, которые можно было обсуждать еще вчера, сегодня стали мелкими и ничтожными. О чувствах же у нас никогда не заходило речи. — Ну, тогда я пошел, — сказал я наконец.
— Ступай, сынок, —проговорил он. — Завтра зайду, потолкую с врачом. — Спасибо, — поблагодарил он. — Лечащий врач придет только утром. — Да ведь не к спеху, — сказал он и взглядом проводил меня до двери. В семь утра мне позвонили и сказали, что отец ночью умер. Когда я вошел в 217 палату: его место уже было занято другим человеком. Сосед по койке и на этот раз успокоил меня: отец нисколько не мучился, просто вздохнул глубоко и — конец. Я подозревал, что сосед, наверное, не открыл мне всей правды; на его месте, подумалось мне, я и сам говорил бы то же самое; но затем я постарался внушить себе, что сосед все же не обманывает и отец и вправду скончался без мучений. Предстояло выполнить массу формальностей. В приемном покое меня встретила сестра — но не из тех, что были в субботу, и не та, что дежурила в воскресенье, а совсем незнакомая — и передала мне золотые часы отца, его очки, кошелек, зажигалку и пакет, в котором лежали яблоки. Ей я тоже дал двадцать форинтов и продиктовал необходимые данные об отце. Затем ко мне подступил какой-то мужчина в кожаной кепке и предложил обмыть, побрить и обрядить покойного. Он, правда, употребил слово «тело», очевидно давая понять, что упомянутого лица уже нет в живых, но и покойным его не назовешь покуда он не обмыт и не обряжен. У меня оставались еще припасенные для врача сто форинтов в заклеенном конверте. Я протянул их служителю морга. Он надорвал конверт, заглянул туда, затем сорвал с головы кепку и больше не надевал ее в моем присутствии. Сказал, что устроит все в наилучшем виде, как только изволю прислать чистое белье и одежду, и что непременно останусь доволен. Я ответил, что после обеда занесу белье и темный костюм, а сейчас мне хотелось бы пройти к отцу. — Вы хотите взглянут на тело? — поразился он. — Да, хочу, — ответил я. — Лучше бы потом, — посоветовал он. — Я хочу увидеть сейчас, —повторил я. —Меня не было с ним, когда он умер. Поколебавшись, служитель все-таки провел меня в морг, отдельное здание посреди больничного сада. Сильная лампочка без абажура ярко освещала подвал. Надо было спуститься по бетонным ступенькам, и в самом низу, на голом цементном полу, навзничь лежал мой отец. Ноги раскинуты, как на батальных полотнах изображают павших геройской смертью, с той только разницей, что на нем не было никакой одежды. Из одной ноздри торчал кусочек ваты, а другой клочок ваты приклеился к левому бедру. Видимо, сюда ему делали последний укол. — Пока еще не на что смотреть, — извиняющимся тоном сказал обладатель кожаной кепки. Даже в ледяном подвале он продолжал стоять передо мной с непокрытой головой. — Вот когда я его обряжу — залюбуетесь. Я промолчал. — Усопший долго болел? — спросил он немного погодя. — Долго, —ответил я. — Я думаю покороче подстричь ему волосы, — заметил он. — Это очень много значит. — Как хотите, — сказал я. — Он зачесывал волосы на пробор? — Да, — ответил я. Он замолчал. Я молчал тоже. Мне нечего было сказать и ничего невозможно сделать, и даже денег дать было некому. Я не в силах ничего искупить, даже если сам заживо погребу себя вместе с отцом.